
12 обедов. Серия 9. Игорь и Евгений Манко
Харьков — город, о котором можно снимать кино. В том числе — в формате документального сериала.
«Люк» вместе с рестораном «Киношники» продолжает цикл сценариев-разговоров за столом, в котором люди из творческой среды, связанные родственными узами, говорят о семейных традициях, Харькове, культуре и еде.
Все персонажи не вымышлены, все совпадения с реальными событиями не случайны.
В предыдущей серии на обед к Дарье Спасовой пришли Алексей и Анастасия Яловеги. Герои обсудили летопись харьковской культурной жизни, самоидентификацию в искусстве, правила жизни криптоарта и криптоартистов, а также «обнять и плакать» как важную составляющую украинского культурного кода.
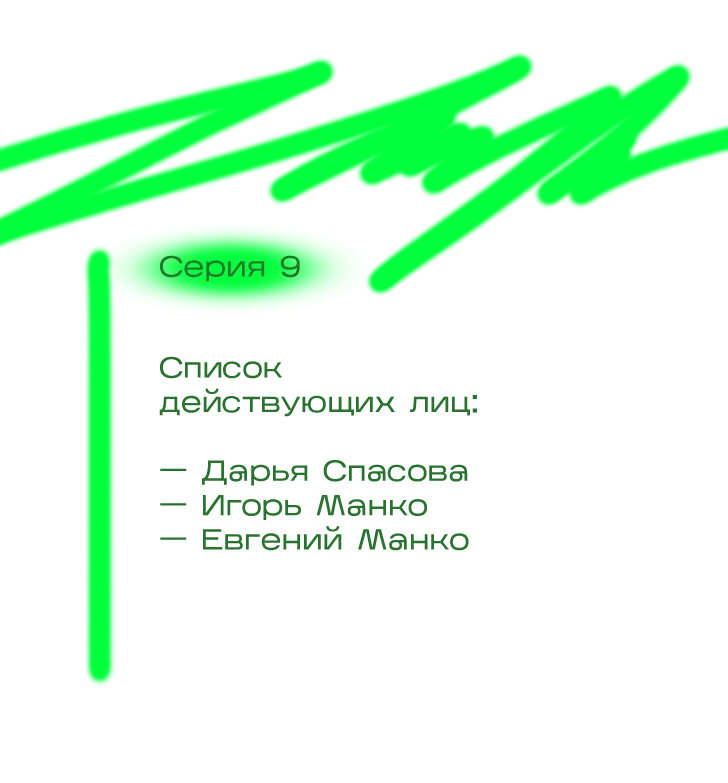
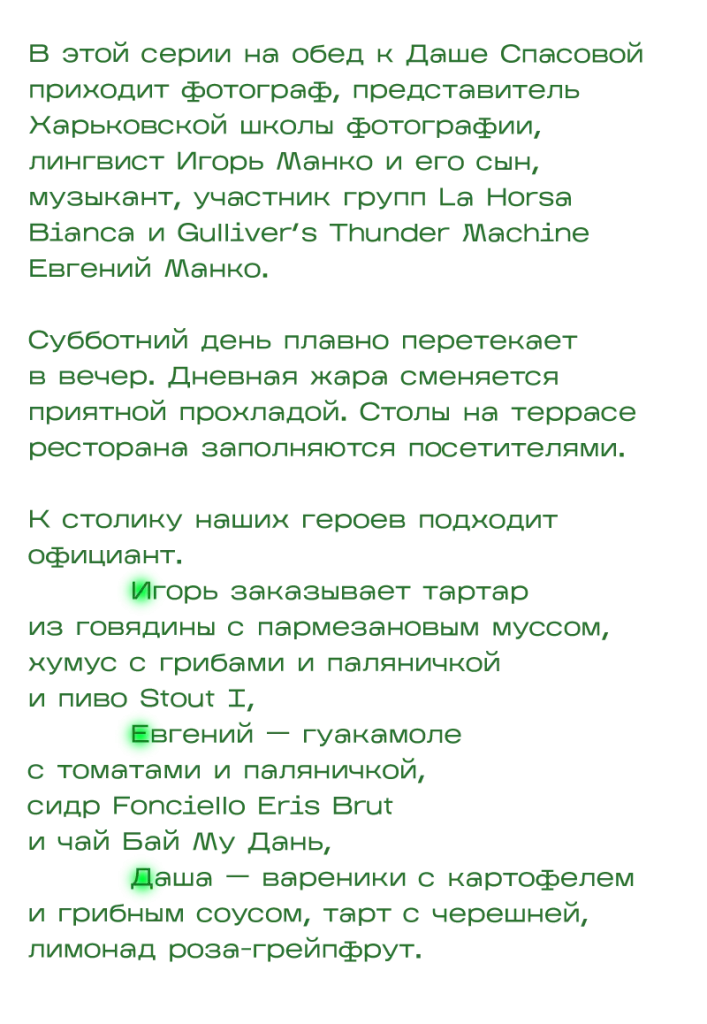
Игорь: (Обращается к сыну) Начинай ты, я ж старше! (Смеется)
Евгений: Папа — филолог, фотограф, преподаватель английского, руководитель языковой школы.
И.: Я не люблю, когда меня называют филологом, называй меня лингвистом.
Е.: Филолог — шире.
И.: Я у́же. (Женя смеется).
Е.: Собственно, известная фигура Харьковской школы фотографии.
И.: Женя — мой сын и он тоже лингвист, я не употребляю слово филолог. И он в разной степени знает дофига языков, в отличие от меня. Потому что по-настоящему хорошо я знаю один язык — кроме русского и украинского.
Женя — музыкант. И это меня тоже очень радует. Я в свое время был музыкантом, Женя этого не упомянул, потому что его тогда еще не было. Но я играл в бэнде — тогда это называлось вокально-инструментальном ансамблем. Сначала в Полтаве, где я родился, а потом в Харькове, когда учился в университете. У нас пианино было на одной из съемных квартир, я Женю учил играть на пианино, и отсюда все пошло. Сейчас Женя, думаю, не менее известен как музыкант, чем я как фотограф. И музыка, которую он играет, пишет и исполняет, становится все интересней и все сложнее.

Д.: Женя, вы в детстве как папу воспринимали — больше как лингвиста или как фотографа? И было ли у вас, как у практически любого ребенка «Хочу быть как папа»?
Е.: Я думаю, это совпало с папиными этапами. Потому что когда я был совсем мелкий, папа в большей степени был фотографом. Темная комната, мешки для проявки пленки, футляры от фотоаппарата, которые мне можно было брать, в отличие от фотоаппарата.
А в тот момент, когда он начал активно заниматься языковой школой — тогда это были так называемые курсы Streamline, которые впоследствии стали International House — папа стал меньше заниматься фотографией и, соответственно, больше внимания уделять английскому языку. Тогда лингвистика стала доминирующим фактором, а фотография осталась неким кофром, который папа возил с собой куда-нибудь летом и очень редко открывал.
И.: Это неправда, открывал постоянно, не только летом. Жене не изменяет память: я занимался фотографией, которая как профессия не приносила доход — нужно было идти в коммерцию, снимать школы, выпускные вечера, чего очень не хотелось. И поскольку у меня был английский после университета, я начал преподавать. Мы создали крохотные курсы, чтобы просто зарабатывать на жизнь.

Д.: Это начало 90-х, правильно?
И.: Я с 1989-го начал преподавать. В 90-е мы сделали лингвистический центр Streamline, первые в Харькове были негосударственными курсами, первые стали работать по американским учебникам. А в 1994 году в Харькове фонд Сороса проводил конкурс на то, кому бы подарить 150 тысяч долларов, чтобы сделать языковую школу европейского уровня.
Я этот конкурс выиграл, и я прекрасно помню свои внутренние терзания. Потому что понимал, что это конец фотографии в моей жизни. 150 тысяч долларов — это и сейчас немалые деньги. Чтобы вы понимали, что это было в начале 90-х — такая история. Мы с Женей возвращаемся из Крыма и у меня с собой 6 или 7 долларов купюрами по 1 доллару. Мы живем тогда втроем — я, Женя и большая вечно голодная собака. Раз в три дня мы идем на рынок, я меняю 1 доллар и покупаю еду на три дня — себе, Жене и прожорливой собаке. Соответственно, можно себе представить, что такое были 150 тысяч.
Поэтому на 10 лет я из фотографии практически выпал. Мы ездили летом в Крым или на дачу, там я фотографировал, в Харькове практически не фотографировал.
Д.: А история с циклом «36 видов горы Кара-Даг» была позже?
И.: Это 90-е годы как раз. Мне не хватало до 36 и я поехал в 2005-м летом в Крым, доснял несколько пленок, и в сентябре 2005-го в Муниципальной галереи эту серию выставил.
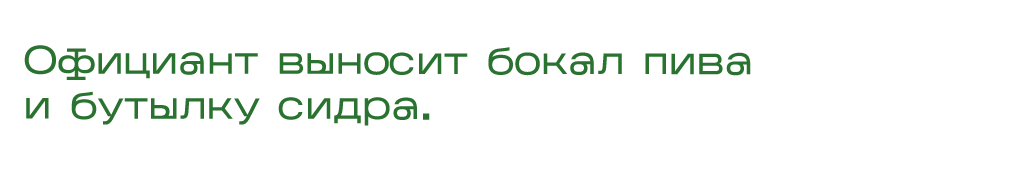
Д.: А проще было поехать доснять или изменить название серии?
И.: Послушайте, это же традиция, все японское искусство, весь Хокусай, 36 видов Фудзи. Нельзя было сделать 35, это было бы отклонением.
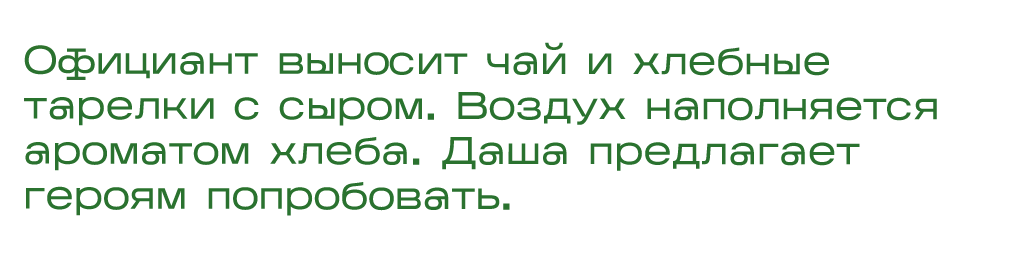
Д.: Игорь, а каково было в Советском Союзе заниматься фотографией в принципе и фотографией, которая представляет собой ХШФ? Это ведь по сути протестное движение. И сейчас ваше искусство отличается от всех ваших коллег. Как вам тогда жилось с этим?
И.: Мне и моему поколению — уже проще. Я начал заниматься фотографией в детстве, когда мне было семь лет, отец купил мне первый фотоаппарат.
Художественной фотографией стал заниматься уже в начале 80-х. Но нам-то было не страшно, потому что за это уже не сажали. Олег Малеваный рассказывал замечательную историю о том, как они в 70-е, когда группа «Время» функционировала, всерьез обсуждали, что если посадят в тюрьму, то художник может о чем-то рисовать, а фотографу камеру не дадут.

Никого, собственно, не посадили, но неприятности в 70-х были у всех. За тем же Малеваным хвост был приставлен, потому что не понимали, как он свои работы в Европу переправляет на выставки. Михайлова с работы уволили. Что еще было прекрасного?
Е.: Ну тебя же тоже в КГБ вызывали.
И.: Но за анекдоты, здрасьте! Меня за фотографию не вызывали, у меня вообще она не была такой остросоциальной, как у старшего поколения. Может, потому что я не из Харькова, а из Полтавы, там жизнь немного другая.
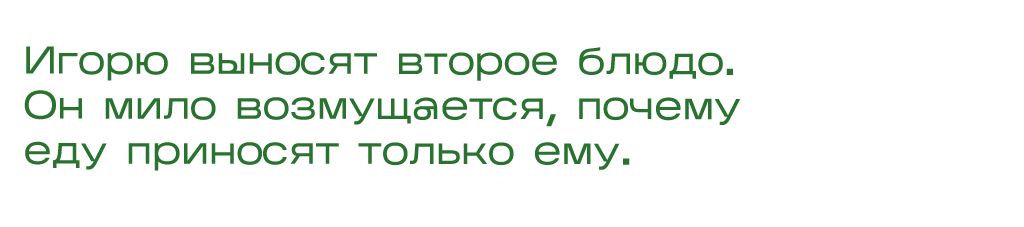
Д.: А сейчас в вашей жизни фотография присутствует?
И.: Моей фотографии был нанесен удар в 2014-м, потому что в 2009-м я начал снимать 100 видов горы Кара-Даг, уже цифровой техникой. Я не собирался этот проект прекращать. После аннексии Крыма я нашел новые средства, сделал очень патриотичную серию «Золотое сечение украинского пейзажа», где в черно-белый пейзаж добавил цвета украинского флага.
Потом я сделал достаточно депрессивную работу «Деконструкция пейзажа». Когда были активные боевые действия, привозили с фронта фрагменты взорвавшихся «Градов». Я набрал этих штук, поехал в студию, и отснял их в красном свете. Получились очень красивые, эстетские, страшные работы о войне. Это, наверное, последнее, что я сделал в фотографии.
Сейчас больше занимаюсь кураторством проекта о Харьковской школе фотографии при поддержке Украинского института. Мне кажется, это важно — не только потому, что Украинский институт пишет, что у них эта программа посвящена восстановлению субъектности Украины, но и потому, что эта субъектность действительно оспаривается.

Д.: Правильно ли я понимаю, что там и тексты исследовательские, и, собственно, архивы фотографии…
И.: Да, там 29 авторов — от группы «Время» до сегодняшнего дня. Три поколения харьковской фотографии, исследовательские тексты, собрана библиография всего, что написано о харьковской фотографии. Собственно, кроме исследовательских текстов, все тексты мои, я писал их как куратор этого проекта.
Д.: Я читала ваше интервью двухлетней давности, где вы говорили, что у вас была надежда на четвертое поколение харьковской фотографии, но потом она иссякла. С тех пор ваше мнение не изменилось?
И.: Я называю это «последний вздох» — группа «Шило» и прочее. Мне кажется, что Харьковская школа фотографии после того, как «Шило» обстебало ее со всех сторон возможных, она — все.
Д.: Вы имеете в виду, не надо говорить о ней как о чем-то существующем?
И.: Ее влияние всегда было, есть и будет. Но школа — это что-то коллективное, совместное. «Шило» ведь прекратило заниматься фотографией по сути. Бывший с ними когда-то Василиса Незабаром перестал снимать, он занимается перформансами и уехал из Харькова. Влад Краснощек красит живопись.

Купить альбом Михайлова «Неоконченная диссертация», напечатать свои маленькие фотографии, заклеить ими работы Михайлова, устроить презентацию в галерее VovаTanya — мол, мы теперь тоже харьковская фотография, мы закончили незаконченную диссертацию. Да, прекрасный концептуальный жест, но это именно тот самый последний гвоздь.
Е.: Но стеб — это, в том числе, признание явления. Потому что нельзя делать его на ровном месте, можно — на фоне классики. В этом смысле «Шило» послужило ХШФ колоссально как явлению.

Д.: Я тоже росла в творческой среде, училась в музыкальной школе, играла на флейте. В лицее искусств нас водили на выставки и концерты, там это было в порядке обязаловки и привычная часть жизни. При этом мне вкладывали в голову достаточно стереотипное восприятие прекрасного. И первое, что всплывает в голове при упоминании фамилии Михайлова, были его знаменитые портреты в полный рост…
И.: С фаллоиммитатором?
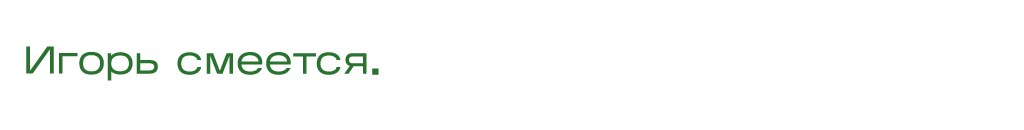
Д.: С фаллоиммитатором. Мне было лет 16-17, когда я впервые их увидела. И я такая: что происходит? Харьковская школа фотографии — это очевидно феномен, часть истории нашего города. И если мы воспитываем детей культурными людьми, они должны об этом знать. Но как, по вашему, объяснить ребенку, что хотели сказать эти люди?
И.: Слушайте, ну не все нужно объяснять ребенку. Тут взрослым-то не объяснишь. Национальный союз фотохудожников Украины, например, по-прежнему ненавидит харьковскую фотографию лютой ненавистью. Потому что, во-первых, они все заскорузлые в этой эстетике, которой вас учили в 133-й школе [в лицее искусств — «Люк»], а, во-вторых, зависть, видимо, что о Харькове все знают. Это совершенно неочевидно даже для подавляющего большинства людей, называющих себя фотографами.
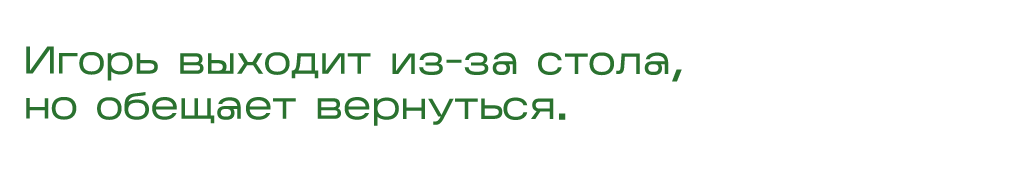
Е.: Мне кажется, что в принципе вопрос, как ребенку объяснить — несколько надуманный.
Д.: А как это было в вашей жизни?
Е.: Я не думаю, что я специально задумывался о том, чем эта фотография отличается от какой-то другой. Были папины фотографии, фотографии других людей. Я принимал их как должное. Ребенок сам разберется, мне кажется.

Д.: Но при этом мы встречаем взрослых, которые не разбираются. Они же выросли из таких детей.
Е.: Возможно, они не могут это оценить, потому что когда были детьми, им это не показывали, их пытались каким-то образом защитить от такого искусства. А для детей это не является чем-то шокирующим, для них это просто информация о мире. Люди должны сами составлять свое представление. И чем раньше это произойдет, тем проще человеку потом будет существовать с любым искусством. Возможно, каким-то взрослым людям нужно объяснять Босха, например. Но если показать Босха ребенку — для него это будут просто прикольные картинки, он получит массу удовольствия.
Д.: Есть такое мнение, что искусство должно приносить удовольствие. Но я до сих пор не понимаю, приносит ли мне тот же Михайлов удовольствие или нет.
Е.: Вопрос в том, что такое удовольствие. Если трактовать удовольствие узко — что искусство должно делать человеку приятно и убаюкивать, обязательно быть красивым, питать исключительно чувство прекрасного — мы в итоге приходим к тому, что надо писать картины о цветочках и снимать пейзажи. А где в этой концепции место экспрессионизму, Эдварду Мунку, Босху тому же? Где место, например, музыке в стиле нойз? Это некрасивая музыка в узком понимании слова красивое, но она может доставлять удовольствие именно свой некомфортностью, именно тем, что она заставляет переживать сильные чувства. Люди, которые смотрят ужастики, — они же не получают наслаждение от того, как людей расчленяют на экране? Но именно этот стресс может доставлять определенный род удовольствия. Можно спорить, что из этого является искусством, являются ли ужастики китчем, но это разновидность переживаний. Как и в искусстве экспрессионизма, как в музыке Шенберга, которая тоже не о гармоничном звучании.

Д.: Женя, вопрос теперь, собственно, о музыке. Как вы пришли к ней? И правильно ли я понимаю, что это ваш основной вид деятельности?
Е.: Нет, я работаю техническим писателем и менеджером локализации в IT-компании. Работаю лингвистом при программистах. Поскольку меня слово филолог не смущает, в отличие от папы, я работаю филологом при айтишниках и мне вполне нравится эта формулировка. Это то, чем мне довольно легко заниматься — работать одновременно с большим количеством языков.
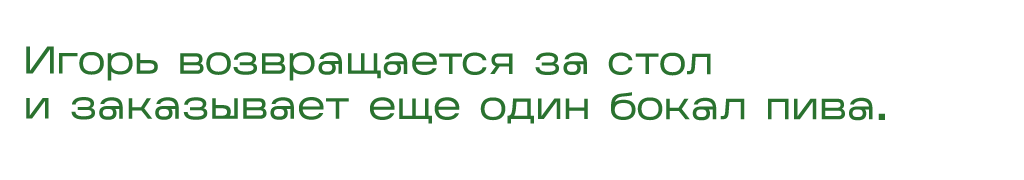
И.: Я объясню, почему не люблю слово филолог. В мои студенческие времена — тут тоже нужно понимать, что я поступил на филфак, но на отделение «русский язык как иностранный» — это была прикладная лингвистика, как обучать иностранцев русскому. Я тогда еще не знал, что не проработаю с иностранцами ни дня, потому что меня запретят брать на работу с иностранцами из-за моих взглядов. Это была вот такая вот филология. А филфак был местом для тех, кто никуда больше не может поступить.
Е.: Но тем не менее филология — это просто любовь к словам, не вижу ничего постыдного в этом определении. Так вот, музыка началась совсем не сразу, поскольку все равно visual arts в семье превалировали. Да, было пианино, на котором папа иногда что-то играл, но важно не только это, важно, что окружает. И музыкантов вокруг из друзей семьи было крайне мало. Зато были художники и фотографы.
Фотография привлекать не начала, потому что, возможно, был протест — почему я должен делать то, что делает папа? Первым из visual arts для меня стала живопись. Я все время наблюдал, как друг семьи Леша Борисов ездил в тот же Крым или еще куда-то с этюдником. Меня это страшно увлекло, я тоже начал пытаться это делать, какое-то время у него учился — не то, чтобы стоял рядом с мольбертом и копировал движения мастера, но ходил к нему в мастерскую, смотрел, как он «красит» свои картины, как он любит говорить. И этим я дома для себя занимался, меня это увлекало.

Когда концентрация музыкантов вокруг повысилась — это и мои школьные друзья вроде Жени Жебко [сооснователь и участник Pur:Pur — «Люк»], которые в тот момент уже были довольно хорошими музыкантами — мне тоже стало интересно пробовать этим заниматься.

И.: Помнишь историю о музыкальной школе имени Бетховена в подвале на улице Культуры?
Е.: Нет.
И.: У меня был приятель, играл на флейте, была такая группа «Игра», они играли сложную неординарную музыку. Мы вместе работали, пытались учить чему-то маленьких детей.
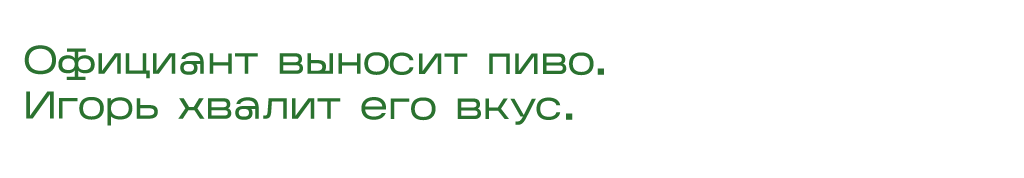
Ну и Женя, соответственно, захотел играть на флейте. Тем более, что у него получалось. Мы пошли поступать на класс флейты в музыкальную школы в начале-середине 90-х. И первое, что у нас спросили: «А у вас флейта есть? У нас нет». И тогда Женя стал брать уроки у Славы Мединцева.
Е.: Слава подарил мне альтовую блок-флейту. Написал для меня ноты Jethro Tull «Elegy». Это была первая вещь, которую я сыграл по нотам, еще и на блок-флейте.
И.: Еще была прекрасная история. В начале 90-х мы отдыхали с Женькой в Лисьей бухте возле Кара-Дага в Крыму и приехали мои московские друзья. У этой пары муж играл на японской флейте, сам их вырезал из бамбука.
Е.: Сякухати.
И.: Женька взял эту флейту, когда они приехали, и сразу начал извлекать из нее звуки.
Е.: Там был кусок бамбука, из которого он мне ее вырезал прямо там.
И.: Невероятно сложно на ней играть, сложнее, чем на любой другой.
Е.: Немножечко сложнее, чем дуть в бутылку. На ней сложно играть хорошо, так, как собственно, японцы это делают. Просто извлечь звук — не очень сложно.

Д.: Вы играете на флейте, на басу…
Е.: Да, я, в основном, играю на бас-гитаре в группе. Не очень удобно играть одновременно на бас-гитаре и флейте, потому что нет четырех рук.
Д.: А сколько у вас сейчас музыкальных проектов?
Е.: На данный момент два. Из активных пока что есть La Horsa Bianсa — мой главный проект — и Gulliver’s Thunder Machine, где я просто играю на бас-гитаре.
Д.: Расскажите о Харькове вашего детства. У нас почти в каждом разговоре всплывает кофейня на Гаршина…
Е.: Папа, конечно, туда ходил. Но я не очень помню Гаршина, наверное, был слишком мелкий.
И.: Есть документальные свидетельства того, что ты там был.
Е.: Разумеется. Я чуть лучше помню «Сквозняк», просто потому что когда он появился, был уже немного старше. «Булку» опять же помню — кафе в подвальчике на углу Сумской и Скрипника, которого уже очень давно нет.
И.: Там была булочная до этого.
Е.: Ну да. А Харьков моего детства состоял из разрозненных кусков, потому что жили мы на Павловом Поле большую часть моего детства. Папа с мамой развелись, когда мне было пять лет, и я несколько дней в неделю жил в одной квартире, несколько — в другой, учебники — в школе. Отдельно от Павлова Поля были Жуки, потому что я ездил в гимназию «Очаг» минут 45 на «двойке». И понятно, центр, куда мы ходили гулять. Но какого-то целостного недискретного Харькова, наверное, не было.

Д.: А когда появилась целостная картина города?
Е.: Уже, наверное, когда я начал учиться в НУА и необходимость перемещаться в новые места стала более актуальной. Может быть, и раньше, но все равно была Ойкумена — некий обитаемый Харьков — дом, школа, International House.
И.: Как только мы переехали на Маршала Бажанова, 7 ты начал туда ходить.
Д.: С International House и Маршала Бажанова связана любимая история моих одноклассников. Там был прекрасный киоск с хот-догами. Мы регулярно после школы покупали эти самые хот-доги и медленным шагом шли с ними к метро. Перед входом в International House стоял столбик, ограничивающий проезд машин. И однажды, поскольку мы были увлечены едой и беседой, я врезалась в него ногой, сделала ласточку через этот столбик и мой хот-дог ушел гулять. Было очень больно, и смешно настолько, что у остальных из хот-догов выпала начинка.
И.: Его вбил Женин дядя, который у нас работал. Бажанова же была перекрыта забором, а автомобили все время пытались проехать по тротуару.
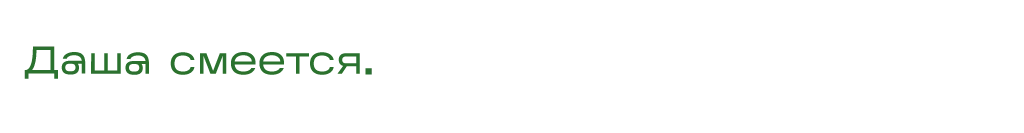
Д.: Но самое интересное, что этот столбик снесли на следующий день, после того, как я упала. Это было очень эпично, до сих пор вспоминаем, хотя прошло лет двадцать.
И.: (Обращается к Даше) Давайте я вам скидку дам на обучение!
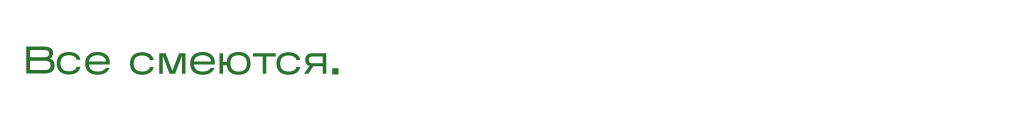
Д.: Кстати, с удовольствием!
Е.: За моральный ущерб от столбика. (После паузы) Хочу вернуться к хот-догам — я несколько раз об этом задумывался. Тогда в 90-е повсюду были разные хот-доги — похуже, получше, обязательно с корейской морковкой.
Д.: И свекла еще была маринованная.
Е.: Свекла — это было уже fancy.

Д.: Да, согласна.
Е.: И сейчас все это заменилось шаурмой. А тогда всегда можно было выйти и купить хот-дог, потому что стояли эти тележечки с навесом, сосисками в горячей воде.
Д.: Вообще этот вагончик был легендарный. После лицея искусств я училась в лицее при ХИСИ [Харьковский национальный институт строительства и архитектуры — «Люк»] в здании бывшего общежития на Артема, прямо перед Молодежным парком. И этот вагончик переехал туда. А буквально перед моим поступлением в институт — пропал. Примерно тогда же, в 2004 году, по-моему, пропали все хот-доги в принципе. Ура, мы выплыли на вопросы о еде! Кстати, а что вы покупали на один доллар, вы помните, какая это была еда?
И.: Собаке покупали кашу и мясные обрезки. Сухих кормов не было. Что мы с Женькой ели? Какие-то примитивные вещи, которые на рыночке можно было купить — овощи, фрукты, спагетти.
Д.: Ходили на рынок на Павловом Поле?
И.: Он тогда тянулся вдоль проспекта. Начинался с угла 23 августа и по стороне, противоположной рынку нынешнему, шел вдоль тротуарчиков. Крохотный, скромненький, но там что-то можно было купить. Потому что в магазине «Спутник» [на проспекте Ленина] не было ничего.
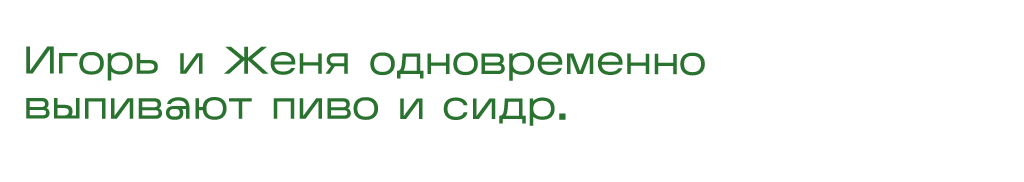
Я еще вспоминаю историю, как перед школой решил Женю свозить в первый раз в Крым, это был июль-начало августа 1992 года. Мы вдвоем поехали в Форос, взяли палатку, стали в рощице. И на первый или второй день палатку обокрали, у нас украли все съестное, консервы, тушенку всякую. И мы покупали в Форосе в магазине спагетти и кильку в томате. На этом неделю продержались. Уличной еды не было тогда.
Д.: А не было в Форосе рынка?
И.: В 1992 году в Форосе не было рынка, только один продуктовый магазин на весь поселок, как, собственно, и в Курортном, ближе к Лисьей бухте. Там был один магазин на весь этот поселок, где продавали морскую капусту в банке и еще такую дрянь, которые я кормил собаке — в стеклянных банках кусочки курицы в каком-то желе.
Е.: Типа куриной тушенки, но сомнительного пошиба.
И.: Да, мы везли с собой большое количество круп, а туда ходили за морской капустой и за этой тушенкой.

Д.: (Улыбается) Хорошо, что это время закончилось!
И.: Да, хорошо, что оно было. Потому что это было по-своему интересно, школа выживания.
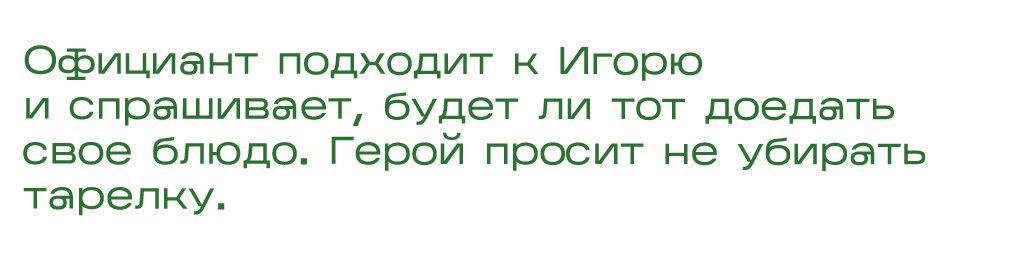
Д.: Женя, а вы готовите сами?
Е.: Да.
И.: (С умилением) Прекрасно!
Д.: Любовь к спагетти осталась?
Е.: В целом, да, наверное. В детстве, конечно, не было такой прекрасной вещи, как песто.
И.: Я пытался после поездок в Италию приготовить пасту с морепродуктами, но все равно добиться такого совершенства, как в Риме, не получалось.
Е.: Я скорее сейчас ленюсь готовить…
И.: Возьмите у него рецепт почек по-уйгурски!
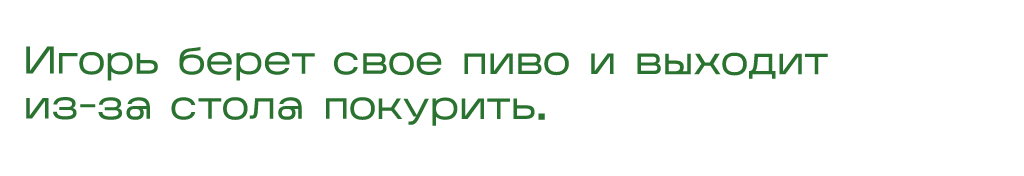
Д.: Почки по-уйгурски, я правильно услышала?
Е.: Да, я же его не выдумал, я выучил его у Сталика или кого-то еще во времена ЖЖ.
Д.: Да, я тоже там зависала. Женя, я знаю, что вы дружите с Ольгой Ксендзовской…
Е.: Ольга Ксендзовская — моя жена. (Смеется).
Д.: (Улыбается) Я думала, как бы так тактично спросить об этом… Вы давно в культурной тусовке, но работаете филологом при айтишниках. Это же два совершенно разных мира. Как вам с этим?
Е.: Хорошо. У меня есть одна знакомая с другой стороны планеты, мы как раз с ней недавно разговаривали по поводу работы в корпорации. Она говорит, что когда общаешься с музыкантами, художниками и т.д., все страшно ранимые. И очень хорошо иногда оказаться среди людей, которые устроены иначе и не очень беспокоятся о собственной уникальности. Ну и поскольку в так называемой арт-среде я все равно не среди писателей и поэтов, а языки мне интересны, то работать с переводами софта на 12 языков — увлекательно. Даже если дедлайн завтра. Или вчера.

Д.: Похоже ли это на написание музыки или совершенно другое?
Е.: Нет, совершенно другая часть мозга работает. Работа над музыкой состоит из того, что давайте попробуем и посмотрим, что получается. Давайте попробуем и поймем, как что-то работает вместе.
Д.: То есть в музыке момент осознанности отключается?
Е.: Нет, осознанность есть, потому что я понимаю, что именно мы пытаемся сделать, но никогда не знаешь, какой будет результат. В этом смысле музыка — не очень головоломка. Это все равно как повезет. Нужно просто все время держать уши открытыми, чтобы понять, как работает то, что ты сейчас сделал. Что нужно той вещи, над которой вы работаете, что сделает ее наиболее эффектной.

В то же время работа с переводами — это всегда немного головоломка и на нее всегда есть ответ. В музыке нет, потому что можно придумать решение головоломки, но работать оно не будет.
Д.: То есть результат собранной головоломки тоже приносит удовольствие?
Е.: Это приносит интеллектуальное удовлетворение, но это не те же эмоции. В этом всегда есть некий выброс дофамина, но он от достижения ожидаемого. А в музыке, живописи и прочем, если результат тебя не удивляет, значит, что-то пошло не так. Показывать надо тот результат, который удивляет тебя самого. Если сам себя не удивляешь — никакое это не искусство.
И.: Концептуализм.
Е.: Концептуализм тоже должен удивлять.

И.: Да, это необязательно удивление визуальное, если мы говорим о визуальных искусствах. Это интеллектуальное удивление.
Е.: И в музыке тоже самое. Даже если это какая-то простая музыка.
И.: Филип Гласс!
Е.: Да, в La Horsa Bianca мы занимаемся чуть более замороченной музыкой, в «Гулливере» — чуть менее. Но все равно, если что-то собралось и совпало, можно применить музыкальную теорию и постфактум объяснить, за счет каких элементов это музыкальное произведение воздействует именно так. Но в обратную сторону это не работает. Нельзя взять принципы музыкальной теории и написать произведение Филипа Гласса или Led Zeppelin.
И.: Филипа Гласса можно, это концептуализм 60-х. Я поэтому и привожу этот пример, потому что это невероятно известный композитор 60-70-х, так называемый минимализм музыкальный. Это невозможно слушать совершенно, просто невозможно!
Е.: В смысле невозможно? Это совершенно прекрасная музыка!

И.: Удивляет здесь только: «В смысле, а что, и так можно делать? Взять одну ноту и держать ее пять минут?»
Е.: Дело в том, что если просто попытаться сделать что-то в духе Гласса, формально можно сочинить очень похожую музыку, но она не будет обладать теми качествами, которыми обладает музыка Гласса.
И.: Женька, ты же понимаешь, что я просто, чтобы поспорить, добавить дров в костер. Всего-навсего.
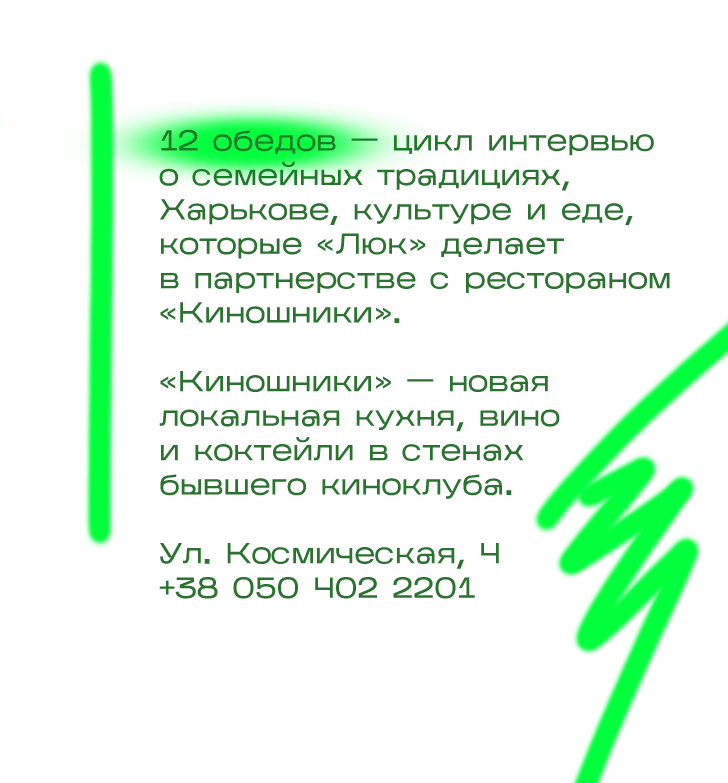
Другие серии проекта «12 обедов»:
Серия 1. Анатолий и Юрек Якубовы
Серия 2. Игорь и Сергей Мезенцевы
Серия 3. Маша, Даша и Варя Коломиец
Серия 4. Илья Павлов и Маша Норазян
Серия 5. Сергей Ильченко и Елена Ильницкая
Сергей 6. Bob Basset, Татьяна и Максим Ландесман
Серия 7. Chris Bird и Анна Мудра
Серия 8. Алексей и Анастасия Яловеги
Фотографии — Екатерина Переверзева



